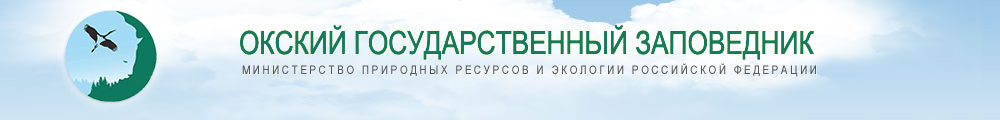
28.02.2020 - Как секач отметил 23 февраля (попытка реконструкции)Сегодня мы публикуем рассказ старшего научного сотрудника Надежды Леонидовны Панковой о буднях заповедного зоолога. Если вам все еще кажется, что кабаны – это такие толстые мохнатые свиньи, которые думают только о еде, сходите на исходе февраля по следам какого-нибудь нашего заповедного секача. Не обязательно Большого Копыта. Можно и какого-нибудь другого, например вот этого, с бородкой и пятном на брюхе. Еще не придумала, как его звать. Его ход от лежки до лежки я вытрапливала два дня. Четырнадцать километров по хвойникам, пойменным дубравам и дремучим болотистым староречьям. В первый день тропления я вернулась домой счастливая от прозрачного солнца, до краев налитая этим солнцем, ярко синим небом, с которого сошла зимняя бледность, дурашливыми и веселыми песенками чижей. Во второй день вернулась домой мокрая до нитки. Торопилась прочитать след, пока его не размыло дождем. Весна буквально выдергивала у меня из-под ног страницу «белой книги». Но я успела. След кабан оставил 23 февраля, в выходной. Как раз закончил валить мокрый снег, и кабан начал свой путь. Я выгрузила трек из навигатора, наложила на карту и готова к реконструкции кабаньего дня. Итак, воскресенье, 23 февраля. Кусочек хвойного леса у края поймы, под еловой лапой колыбелька-гнездо, в гнезде кабан. Время по людским мерками «послеобеденное». Кабан поднимается, на боках хвоинки и земляная труха…
Тут что-то происходит, потому что кабан, пройдя метров сто спокойным шагом, вдруг пускается бежать рысью, а потом и вовсе переходит на двухметровые прыжки. Не знаю, что его напугало, волчьих следов не видно, человеческих тоже. Так бежал и скакал около километра, пока не успокоился. Странное начало дневной активности – без завтрака и кофе сходу пускаться вскачь. Или это такая зарядка? Увы, про это на снегу ничего не написано. Измерила ширину шага бегущего кабана: от копыта до копыта – семьдесят сантиметров. Как-то инстинктивно начинаю шагать за ним шире, синхронизируюсь со зверем, но для меня это слишком. Успокоившийся кабан сокращает шаг вдвое, идет вразвалочку, топчется, начинает метить кусты – делать насечки клыками и тереться головой. На мокрых стволиках, возле которых кабан останавливался, я нахожу прилипшие завитки зимнего пуха. Примета весны – линька. Трогательно так. Интимно. На веточках нанизаны капли. В каждой капле округло преломляется наш с кабаном лес.
Провожу рукой по своим волосам – мокрые насквозь, до кожи. У кабана мокнет только щетина, а кудрявая пышная подпушь, наверное, непробиваема для дождя. И жарко уже в таком пуховике. Но вернемся в 23 февраля. Кабан идет по речной пойме, по кромке ивняков и тростников, иногда проходит ивовые кусты насквозь, будто он бесплотный. Но он, наоборот, очень плотный, обтекаемый. Ивовые ветки чешут ему бока. Пару раз останавливается и ковыряет рылом оттаявшую землю. Потом заныривает в густой молодой ельничек, где стоит одна из моих фотоловушек. Кабан становится для нас зримым. 17:54 – февральские сумерки, кабан чешется о ель-чесалку.
Дальше петли, блуждания в зарослях калины, редкие ковыряния мелкого мокрого снега, под которым дубовые листья и потемневшие прошлогодние желуди. Это похоже на беззаботную, в развалку, прогулку по вечернему лесу, но уже на ощупь, на нюх, на слух. По старым, снегом присыпанным тропкам, в глухой ивовый куст, в сплошной тростниковый шелест. Кто ходил ночью по лесу, тот знает. Но – без фонаря, но – с фантастически чутким рылом, с огромными этими ушами. Эта кабанья ночь за гранью человеческого опыта. Следующая фотоловушка – 19:11. За час пройдено два километра семьсот метров. Что ж, я примерно с такой же скоростью по кабаньему следу хожу. Кабан смотрит в камеру, кабан хорош. Кабан становится реальнее, кабан у меня в кармане – на карте памяти. Но дальше его путь уходит во тьму староречий, больше в этот день к фотоловушкам он не подойдет. Река крутила здесь свои петли в древности, наносила пески и илы, каждую весну заботливо посещала свои староречья, чтобы они родства своего не забывали. Река в своем старом русле вырастила густые тростники и серые ивняки. Я так думаю, это специально для кабанов. «Не ходи в тростник», – учил меня старый зоолог Н. В. Тростник – кабанья крепь. В тростниках кабаны лежат. Тростник шелестит днем и ночью, убаюкивает кабанов. Ходить туда бессмысленно и опасно. Все равно ничего не увидишь или нарвешься на кабана, который, спросонок, вскочит, растрепанный и злой… И деться в тростнике от него будет некуда. В общем, лучше не ходить. Н.В. рассказывал, что в молодости делал так. Залезал на дерево, ближайшее к тростниковым зарослям, и кричал, шумел. Кабаны вскакивали, выбегали из тростника, а он их, с дерева, пересчитывал. По деревьям я лазить не умею. Совсем. Заканчивать тропление кабана малодушной записью «ушел в тростник» я не могу. Тем более в такой веселый прозрачный солнечный день. Ну что мне будет в такой день. Если все-таки надо идти в тростник, то лучше кричать, шуметь, петь, хлопать в ладоши. Так учил Н.В. И я вошла в тростник, в желтые его шелестящие волны. Ничего не видно, только кабанья тропа под ногами. Тропка – коридор ведет меня в «комнату», или полянку, где тростник будто скошен. Под ивами два больших рыхлых тростниковых гнезда. Здесь отдыхало стадо кабанов. Но след идет дальше. Кто-то метнулся за стеной тростника. И тишина. Не совсем: в небе кружат вороны и орланы, кричат. Где-то остатки волчьего пиршества лежат. Но все это спустя пару дней после шествия здесь секача в полной уже темноте. Итак, секач шел через тростник, мимо чьих-то гнезд. Его компас – рыло. Чуткий подвижный пятак, или, более уважительно, – назальный диск. Там, где мне неуютно, кабан – дома. Переходит по жидковатому льду древние мелкие баклуши, ковыряется под отмершими листьями манника. Эти узлы староречий на старых заповедницких картах называются «Грязные болота» или «Грязкие». Грязкие – в которых можно погрязнуть, думаю я. Но торфа тут немного, ил соседствует с выходами, намывами песка. Совсем рядом Чернилова гора, голая таинственная возвышенность. Но кабан не идет туда, он бродит староречьями и берегами их. Перейдя очередное болотце, теряю след своего секача среди больших и маленьких кабаньих следов. Все изрыто, истоптано, солнце нещадно топит здесь последний мелкий снег. Кабан нашел своих. Если вы все еще думаете что секач – это такой угрюмый одиночка, которому никто не нужен, пройдите по следу секача на исходе февраля. Вы увидите, что всю дорогу он будет оставлять на деревьях запаховые сообщения сородичам, и, в конце концов, потеряете его след среди следов других вепрей.
Я шла уже по дубраве, не пела, не кричала. Вдруг что-то черное, толстое ломанулось по кустам, хрустя ветками и ухая «Буух-ууух». Кабаны. Потом подняла лосей. Они, по своему обыкновению, лежали на голом снегу. Вскочили молча, долго смотрели на меня спросонок. Сойки смеялись над ними и мяукали, как веселые летающие кошки. Потом я нашла след своего кабана, а скоро и гнездо, в которое он положил свое усталое парнокопытное тело. Гнездо было всего в нескольких метрах от просеки, но под сломанным деревом. Можно пройти и не заметить толстого живого зверя. Думаю, ему хорошо спалось после четырнадцати километров петель и кренделей. По моим расчетам, спать он лег примерно в полночь, предварительно подкрепившись дубравной снедью. И серая неясыть пела ему колыбельную. Но это не точно.
|
|
Copyright © Окский заповедник. Все права защищены. |



